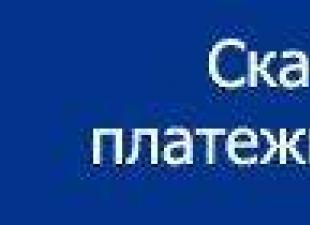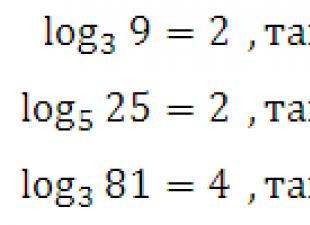(Полагаю, что "нацсамосозн" в расшифровке не нуждается. Можно бы, конечно, и "нацпатрсамосозн", но это дало бы в данном случае неверные политические коннотации).
(1) В позднебрежневском, но все же еще брежневском 1980 году Наровчатов опубликовал
в "Новом Мире", где он редакторствовал, повесть Катаева "Уже написан Вертер". (Что
год был брежневский, существенно, так как в оба андроповских года опубликовать
это сочинение было бы уже невозможно).
Сюжет повести - Одесса, 1920 год; в ЧК забрали и понемногу расстреливают членов
двух подпольных групп - "англо-польской" (готовили выступление в случае подхода
поляков) и "врангелевской" (готовили выступление в случае высадки врангелевского
десанта). Среди подлежащих расстрелу по делу "врангелевской" группы - некий
художник Дима Федоров, сын художника же (реальный прототип - Виктор Федоров, сын
одесского художника Александра Федорова); согласно сюжету, он действительно
примкнул сначала к "врангелевской" группе, но почти сразу отошел от нее,
искренне признал Советскую власть и пошел не-за-страх-а-за-совесть работать в
советский изогит, малевать агитплакаты против того же Врангеля и вообще какие
скажут, и женился на сугубой большевичке Лазаревой, - вот только она была
сотрудницей Одесского ЧК и вышла-то за него по заданию ЧК, в рамках работы по
разоблачению "врангелевской" группы. По ее доносу Диму и арестовали.
Меж тем матушка Димы вспоминает, что когда-то до революции в ее доме был мельком
принят эсер Серафим Лось (он же Глузман; ныне он живет в той же Одессе; реальный
прототип - Андрей Соболь), который, в свою очередь, когда-то был товарищем по
каторге Макса Маркина (реальный прототип - Макс Дейч), возглавляющего Одесскую
ЧК. Именно Маркин является господином жизни и смерти всех арестованных этой ЧК,
в том числе Димы. Мать Димы бросается к Лосю просить его, чтобы тот спас ее сына
- уговорил Маркина пощадить и выпустить Диму именем их прежнего революционно-политкаторжанского
братства. Лось, услышав эту просьбу, тут же устремляется ее исполнять, и,
преодолевая яростное сопротивление Маркина с риском для себя, добивается
обещания Маркина тайно выпустить Диму; при этом Маркин заявляет, что отныне он
Лосю враг.
Исполняя данное Лосю слово, Маркин тайно выпускает Диму. Между тем с севера в
Одессу прибывает особоуполномоченный ЧК Наум Бесстрашный (прототип - Яков
Блюмкин) с поручением проконтролировать работу местных ЧК. Узнав о том, что Дима
был выпущен, Наум Бесстрашный приказывает расстрелять и Маркина, и Лося, и жену
Димы Лазареву, и исполнителя приговоров. Но и самого Наума в будущем расстреляют:
он любимец Троцкого и будет казнен за попытку работать тайным курьером Троцкого
после его изгнания (так оно с Блюмкиным в 1929 и случилось).
Все, конец основного сюжета. Почти у всех героев есть реальные прототипы, а сама
история сочинена на опять-таки реальный сюжет (Катаев и сам сидел в 1920 в ЧК по
делу той же самой "врангелевской" группы, что и Виктор-"Дима" Федоров), хотя и с
изменениями. Все повествование вращается вокруг деятельности ЧК. Катаев рисует
ЧК средоточием кровавого палачества, хотя соответствующих прямых оценок,
естественно, не дает.
Теперь обратимся к нац.составу действующих лиц - нам это потребуется. Вот список
всех персонажей "Вертера", национальность которых можно установить по тексту.
1. Наум Бесстрашный - работник и специальный уполномоченный центрального ЧК.
Активный революционный палач. Еврей с акцентом.
2. Макс Маркин, предгубчека Одессы. Активный революционный палач. Еврей с
акцентом.
3. Надежда Лазарева, сотрудница ЧК Одессы. Революционный палач (специальный
женский род от "палача" не образуешь). Русская из Петербурга.
4-5. Два сотрудника ЧК, приходящих арестовывать Диму. Ростовчане (говорят "с
неистребимым ростовским акцентом"), судя по описанию, один славянин, другой -
еврей или кавказец.
6. Китаец-часовой, военнослужащий спецотряда ЧК. Китаец.
7. Серафим Лось (Глузман). Еврей. Эсер; до 17-го года - эсеровский боевик, в 17-м
на службе Временного правительства, большевизма не принял и отошел от политики.
Рисуется Катаевым с почти неизменной иронией, как вредный слепец в политике, но
на эту иронию наслаиваются два совершенно разных дополнительных подхода:
враждебность ко всему, что касается эсеровской революционной активности Глузмана
до 18-го года, и сочувствие во всем, что касается отношения Глузмана к
большевистскому террору. Террор этот он осуждает принципиально, по первой
просьбе едва знакомой ему матери Димы бросается спасать от этого террора хоть
кого-то, вытряхивает из Маркина обещание пощадить Диму, не отступаясь от этого
требования, даже когда Маркин грозит его застрелить (этот эпизод - единственный,
где Катаев изображает Лося без всякой иронии); когда Лось получил ложное
известие о том, что Диму все-таки расстреляли (в списке расстрелянных-то его
проставили), он двинулся в ЧК убивать Маркина за нарушение слова.
8. Дима Федоров. Русский. Рисуется Катаевым с жалостью к его физическому телу и
нескрываемым презрением ко всему остальному (исключая тот факт, что он не трус).
"Женственная натура", тряпка, ложится под всякую силу или то, что ему таковой
кажется. Примкнул к заговору "врангелевцев" по инерции белой власти в Одессе и
под обаянием соответствующей романтики, после этого почти сразу раскаялся,
принял душой большевистскую власть и романтику революции, не за страх, а за
совесть малюет агитплакаты; однако, слыша, что Врангель в Крыму оправился,
начинает подумывать, что, может, зря он малевал свои агитплакаты против Врангеля,
может, будущее не за красными? Точно так же пленяется Лазаревой как воплощением
жизненной грубой силы (да еще и революционной). По отношению к матери неизменно
и беспощадно безответствен по полной непривычке думать о том, как на ней
сказываются его поступки.
9. Федоров-старший, отец Димы. Русский. Велеречиво-изысканная скотина. При
подходе красных бросил жену и сына в Одессе им под власть, а сам с певичкой
сбежал в Константинополь.
10. Лариса Германовна Федорова, мать Димы. Судя по отчеству, немка (реальную
мать реального Федорова звали Лидия Карловна, что только подтверждает сказанное).
Ничего плохого о ней Катаев не говорит.
11-12. Венгржановские, брат и сестра. Поляки. Арестованы ЧК как участники "англо-польского"
заговора, приговорены к расстрелу, держатся как герои.
13. Полковник Вигланд, англичанин. Арестован ЧК как участник "англо-польского"
заговора, приговорен к расстрелу, держится как герой.
14. Фон Дидерихс. Немец. Арестован ЧК как участник "англо-польского" заговора,
приговорен к расстрелу. Держится, как и все прочие участники этого заговора, как
герой.
15. Карабазов. Русский, приказчик мануфактурного магазина. Арестован ЧК и
приговорен к расстрелу, по-видимому, за частную коммерцию. На смерть идет с
видимым напряжением, но без всяких мольб и т.д., в порядке "психической
самозащиты" с нарочитой кропотливостью сосредоточиваясь на узелке с вещами;
16. Вайнштейн. Еврей-коммерсант, арестован ЧК и приговорен к расстрелу за
частную коммерцию. На смерть идет с видимым напряжением, но без всяких мольб и т.д.,
в порядке "психической самозащиты" пританцовывая и напевая.
17. Одесская еврейка, у которой Дима Федоров снимает комнату. Когда Федоров,
отпущенный из ЧК, является туда, с ужасом отказывается его пустить (официально
было объявлено, что он расстрелян, так что всеми он воспринимается как беглец из
ЧК) и, отдав ему его вещи, выпроваживает на все четыре стороны. Рисуется в целом
без одобрения и без порицания - за укрывательство лиц, подлежащих расстрелу и
приговоренных к расстрелу, большевики беспощадно расстреливали укрывателей;
расстрелять обсуждаемую квартирохозяйку могли бы и за недонесение о появлении
Федорова (доносить она не пошла). Та же ситуация была потом повторена немцами по
отношению к неевреям, укрывавшим евреев или не сообщавшим о них (первых -
расстреливать обязательно, вторых - опционально).
18. Кейлис. Еврей. Бывший меньшевик, ныне беспартийный, завхоз в каком-то
учреждении, выдает пайки. Никакой роли в сюжете не играет.
Все. У всех остальных персонажах "Вертера" нац.принадлежность неизвестна. У
одного ее как будто и вовсе не может быть: следователь-чекист, допрашивающий
Диму Федорова, до поступления в ЧК был молодым маляром, снедаемым жаждой стать
художником и комплексом неполноценности; он поступил в художественное училище,
рисовал преимущественно пейзажи, но не удержался там и вылетел - теперь мстит
всему проклятому старому миру за эту неудачу. Этот явный, пошаговый клон Гитлера,
пересаженный Катаевым в ЧК, едва ли может иметь какие-то реальные характеристики
именно потому, что он - пересаженный в ЧК молодой Гитлер.
Для уяснения дальнейшего надо иметь в виду, что аппарат ЧК в тексте просто одно
в одно списан с реальности 1920 года, как, впрочем, и все остальное, кроме
клонированного Гитлера. Возглавлял ЧК, когда там сидел Катаев, Макс Дейч (прототип
Маркина, еврей), как и в "Вертере", работал там полный интернационал, как и в "Вертере",
Яков Блюмкин (прототип Наума Бесстрашного) был в 1920 фаворитом Троцкого и
особоуполномоченным ЧК, как и в "Вертере" (в реальности, правда, не известно,
посещал ли он Одессу в этом качестве в 1920; зато точно известно, что он был
прислан в этом году в Крым в качестве контролера от центрального ЧК и Троцкого -
проследить, чтоб Бела Кун, Землячка и особотоделы РККА осуществляли порученные
им массовые расстрелы оставшихся в Крыму белых и буржуев с должным рвением, без
послаблений и коррупции).
Надо сказать, что я не встречал при работе с материалами о Катаеве таких, скажем,
прецедентов, чтобы какие-либо русские /восточнославянские
ораторы выражали по поводу этого текста негодование в связи с усмотренной ими
там русо/восточнославянофобией - а ведь при достаточном градусе вздорности
могли бы и выразить: из 5 героев "Вертера", заданных там как
восточные славяне, двое - палачи-чекисты, третий - негодяй, бросивший семью и
драпанувший в Константинополь, четвертый - слякоть, под обаянием силы красных
кинувшийся малевать им агиплакаты, а последний - единственный, про которого
ничего плохого (впрочем, и хорошего) не известно - просто приказчик
мануфактурного магазина. Ничего себе проценты получаются - если, конечно,
доехать в своем деменциальном развитии до того, чтобы их тут считать. Но
желающих это делать на описанный маневр не нашлось. Пароксизмы нацсамосозна
случились у граждан совершенно противоположных устремлений. Чему в
следующих постах последуют пункты...
(2) Анекдотическим эпиграфом к дальнейшему мог бы стать истинно гениальный пассаж
Куняева
: "Так что честь советского еврейства в разборках на тему “Кто виноват”
спас из писателей, может быть, единственный праведник Юрий Домбровский. Да ещё в
какой-то степени Валентин Катаев, если вспомнить “Уже написан Вертер” (после
чего он был объявлен антисемитом)". [Тут прелесть, собственно, в том, что Катаев
ни в какой степени не еврей, не говоря о том, что виноваты у него не "евреи" и
не "русские", и даже не китайцы, а в точности и именно
пламенные революционные палачи - уж кто там они ни на есть].
(3) В "Электронной Еврейской энциклопедии" нашего времени (http://www.eleven.co.il/) [создана на базе Краткой еврейской энциклопедии, изданной в Иерусалиме в 1976-2005 годах Обществом по исследованию еврейских общин в сотрудничестве с Еврейским университетом в Иерусалиме] cказано академически, но все равно величественно:
"В СССР широко распространилась тенденция приписывать евреям все отрицательное,
что было в русской революции и революционном движении. Она нашла выражение даже
в произведениях серьезных писателей, где отчасти служила прикрытием критики
большевизма. Так, Ю. Трифонов в повести «Старик» рассказывает о жестокости
большевиков-евреев при проведении политики расказачивания; В. Катаев в повести «Уже
написан Вертер» (1980) - о жестокости чекистов-евреев".
(4)/ В своих недавно опубликованных мемуарах-дневнике учитель-методист Леонид Лещинский
под 1980 годом отмечает: "Послал в "Крокодил" памфлет "Встреча", получил
издевательский ответ... Сколько еще есть головотяпства, волокиты, бюрократизма [это не в связи с "Крокодилом"]... В журнале "Новый мир" 6, 1980, прочитал статью В.Катаева
"Уже написан вертер" - черносотенная вещь, в номере 6 за 1978 его же статья "Мой
алмазный венец", оказывается идея 12 стульев это его, он благосклонно подарил ее
брату /Петров - это псевдоним брата Катаева, чтоб не путали/, образ Остапа
Бендера взят с работника уголовного розыска. Думаю над проблемами связи
обществоведения и физики: принципы диалектики, законы диалектики, есть
необходимость разработать систему межпредметных отношений".
(авторская публикация мемуаров-дневника: http://zhurnal.lib.ru/l/leshinskij_leonid_abramowich/doc116.shtml)
Тут надо со всей принципиальностью подчеркнуть, что "Встреча", может, и памфлет,
но "Вертер" и "Венец" - решительно не статьи.
(5) Литератор Николай Климонтович . [Воспоминания] "Далее везде" // Октябрь. 2000. N.11
"Здесь к месту припомнить забавный случай, который даже меня, воспитанного в
сугубо либеральном духе, несколько покоробил. Тем более что произошел он в
редакции “Нового мира”, на который я тогда еще возлагал надежды. Только что
вышел номер журнала с катаевской очень хорошей повестью “Уже написан Вертер”, и,
оказавшись в кабинете наедине с одной из самых прогрессивных редакторш журнала,
я поздравил ее со столь удачной публикацией, полагая наивно, что делаю
комплимент. Каково же было мое смущение, когда дама внятно отчеканила: “А я знаю
людей, Коля, которые тем, кто хвалит эту гадость, руки не подают...” Лишь позже
выяснилось то обстоятельство, что хитрая лиса Катаев, отлично зная, что такое
оскал русского либерализма, организовал дело так: повесть была спущена
Наровчатову сверху; а подверглась она либеральным репрессиям, судя по всему, по
той причине, что, изображая застенки одесского ЧК 1919 года, автор не счел
необходимым скрывать, что чекисты в Одессе тех лет были сплошь евреи; причем
помочь делу никак не могло и то обстоятельство, что пытали и убивали они отнюдь
не только белых офицеров, но и своих же соплеменников–буржуев..."
Повесть, спору нет, хорошая. Две поправки: застенки изображены 1920 года, а
чекисты в "Вертере" - не сплошь евреи. Бывает, и хвалят не за то, что написано...
(6). В Револьте Ивановиче Пименове
вскипело отнюдь не национальное, а классово- интернационалистическое
самосознание. Он обиделся за Блюмкина. У Катаева о казни Блюмкина/ Наума Бесстрашного
очередными гэпэушниками сказано: "и он бросился на колени перед... Он хватал их
за руки, пахнущие ружейным маслом, он целовал слюнявым ращинутым ртом сапоги, до
глянца начищенные обувшым кремом. Но все было бесполезно..."
Обидевшись, как сказано, за Блюмкина, Пименов указал:
"Я уже достаточно много знал об этой яркой личности [Блюмкине], но новой для
меня оказалась предсмертная фраза его: “А о том, что меня расстреляют, будет
сообщено в завтрашнем номере "Известий"?” Да, вот так-то держался этот убийца
Мирбаха перед собственной казнью, а вовсе не так, как придумал за него трус
Катаев в "Уже написан Вертер". А в истинности этого воспоминания Штейнберга [нквдшника,
рассказавшего про эту фразу Пименову] меня убеждает штришок: Блюмкин заботится о
публикации не в "Правде" (что ему "Правда" - узкопартийная газета!), но в "Известиях"
- всероссийском органе, слава которого восходит к легендарному даже для Блюмкина
1905 году..." (Револьт Пименов. Воспоминания. Т.2. м., 1996. С.234).
Тут надо несколько заступиться за Валентин Петровича. Рассказа Штейнберга он не
знал, а имажинист Вадим Шершеневич, хорошо знавший Блюмкина (подарил ему, кстати,
свой сборник стихов "Крематорий" с надписью: "Милому Яше - террор в искусстве и
в жизни - наш лозунг. С дружбой Вад. Шершеневич". Таких дарственных Бюлюмкину
было не занимать стать, была среди них и такая: "Дорогому товарищу Блюмочке от
Вл. Маяковского". Впрочем, такого памятника Блюмкину, какой возвел Николай
Степанович Гумилев, всем Маяковским и имажинистам было бы не создать и за
тысячу лет: "Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла,
подошёл пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и
весёлых..."),
Так вот, Вадим Шершеневич описывал Блюмкина по состоянию на начало 20-х
следующим образом (и вот эти-то повествования Катаев знал): «романтик революции...человек
с побитыми зубами... он озирался и пугливо сторожил уши на каждый шум, если кто-нибудь
сзади резко вставал, человек немедленно вскакивал и опускал руку в карман, где
топорщился наган. Успокаивался только сев в свой угол... Блюмкин был очень
хвастлив, также труслив, но, в общем, милый парень... Он был большой,
жирномордый, черный, кудлатый с очень толстыми губами, всегда мокрыми».
Где ж Валентин Петровичу на фоне таких свидетельств ближайших друзей Блюмкина
было догадаться о его доблестях? Кстати, Блюмкина и тут обидели: ничего о его
казни не написали. Ни в "Известиях", ни в "Правде".
(7) Все в той же "Электронной еврейской энциклопедии
", в фундаментальной по объему
простыне "АНТИСЕМИТИ́ЗМ В 1970–80-е гг. [начало оглавления: Введение. СТРАНЫ
ЗАПАДА. Основные течения в современной антисемитской идеологии на Западе... ] (
http://www.eleven.co.il/article/15402) суровый приговор истории опять нашел
Валентин Петровича:
"На евреев возлагается вина не только за бедственное положение дореволюционной
России, но и за большевистские преступления: для спасения реноме советской
страны ответственность за эти преступления перекладывалась на евреев. Ярким
примером служит повесть В. Катаева «Уже написан Вертер» (1980), в которой
палачами русской интеллигенции выступают чекисты-евреи и только евреи".
Батальон стрелять не умеет! В смысле, читать. Жертв ЧК в "Вертере" только под
высоким градусом можно обобщающе назвать русской интеллигенцией, палачами-чекистами
там являются как раз не только евреи, а в той степени, в какой ими являются
евреи, это не Катаев придумал, а такова была суровая правда жизни (вернее,
смерти) в Одессе 1919-1920 года. Образ Катаева и Наровчатова, стремящегося в "Вертере"
спасти реноме Советского государства, тоже вызывает рыдания. Как _в
действительности_ отнеслась Советская власть к этакому спасению своего реноме,
будет изложено в своем месте, - озверела она, вообще-то.
(8) Литератор Игорь Александрович Дедков
, дневник. Запись о "Вертере" от 11 июля
1980 года: "Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть некое
целеуказание: вот кто враг, вот где причина былой жестокости революции. Троцкий,
Блюмкин (Наум Бесстрашный), другие евреи в кожанках… <…> Историческое мышление в
этом случае тоже отсутствует, т.е. оно настолько подозрительно и нечистоплотно,
что все равно [что] отсутствует… И неожиданная в старике Катаеве злобность, и
бесцеремонное упрощение психологии героев (на каких-то два счета)…"
5 октября 1980 Дедков комментирует совершенно правильную оценку "Вертера" Л.Лазаревым
("белогвардейская вещь"): "Я подумал, что, пожалуй, правильно: не антисоветская,
никакая другая, а именно белогвардейская, с "белогвардейским" упрощением
психологии и мотивов "кожаных курток" и с налетом антисемитизма".
Тут опять надо немного заступиться за Валентин Петровича. Где ж ему было знать,
что историческая реальность 1920 года только прикидывалась исторической, а по
сути была, подлая, вовсе и не исторична, так что описывая ее фотографически (без
единого обобщения, кстати), он в смысле исторического мышления проявляет
подозрительность и нечистоплотность? Тут гегельянуться надо было основательно,
чтоб этакое себе представить и уяснить, что Макс Дейч был еврей исключительно в
сфере явлений, а в сфере сущностей национальности не имеет вовсе.
(9) (В процессе подготовке этого материала наткнулся я, впрочем, на штуку, которая
чуть не заставила меня забросить сам материал, ибо что все перечисленные, равно
как и мы, грешные, как не бедные покинутые дети на фоне сочинения Михаила
Золотоносова
"“Мастер и Маргарита” как путеводитель по субкультуре русского
антисемитизма. ИНАПРЕСС. СПб., 1995"? Случайные цитаты: "Однако у "Мастера" иной
генезис, его главный сюжетообразующий источник - романы совсем другого рода, в
первую очередь оккультные, но в специальной транскрипции: в виде смеси мистико-охранительной
традиции, оккультизма и антисемитизма, то есть увлекательных историй о зловещих
"еврейских тайнах"... ...Гипотеза: именно эта протосхема ("мировой жидовский
заговор") стоит за тем, что Воланд и его спутники держат в руках судьбы всего
мира, всемогущи, всезнающи, всепроникающи (вспомним, например, эпизод с глобусом
Воланда)". Что уж тут Вертер какой-то... Если кто хочет, вот отрывки: http://kataklizmi.narod.ru/000/mastimargsubra.htm Но, укрепясь против окружающего нас со всех сторон антисемитизьму, продолжим, вот только в порядке передышки приведем образец с другой грядки. Роман Владимира
Солоухина
"Чаша". Читаем:
"Валентин Катаев в повести “Уже написан Вертер” пишет о своей юности в Одессе.
Его ведут на допрос. Его тоже должны были расстрелять, но в последний момент
заставили отойти в сторону. Дело в том, что отец Катаева был русский, чуть ли не
царский офицер (почему и арестовали юношу и приготовились застрелить), а мать
была коренная одесситка, по всей вероятности - еврейка. Она успела похлопотать
перед крупным чекистом (соплеменником), и таким образом юношу Катаева перед
самым расстрелом заставили отойти в сторону. Он остался свидетелем. А если бы
хлопнули вместе со всеми, не было бы свидетеля, как это и получалось во всех
остальных случаях. Итак, его ведут на допрос..."
Этот батальон умеет стрелять / читать даже хуже Электронной еврейской
энциклопедии! Хоть это и трудно. Пишет Катаев не о своей юности, а о юности
Федерова; мать и отец Катаева - самые что ни на есть русские (по отцу Катаев из
вятского северорусского духовенства, по матери - из малороссийского дворянства;
Катаевы - одна из классических вятских фамилий), матушка Федорова - тоже не
еврейка ни в реальности, ни в "Вертере", хлопочет она в "Вертере" не перед
крупным чекистом. а перед вовсе не чекистом - бывшим эсером, ныне писателем
Лосем-Глузманом, и не как перед соплеменником (которым он ей и не является), а
как перед человеком, который когда-то был принят в их доме... Отец Катаева был
не офицер, а учитель, отец героя "Вертера" - и вовсе адвокат...
Казалось бы: ну "Вертер" - не Велесова книга, напечатан кириллицей, возьми с
полки, проверь! Нет, сам-самородок, живой русский ум...
Возвращаемся к сам-самородкам - живым умам еврейским (и либеральным).
"В тот же период публикуются произведения, авторы которых стараются вскрыть негативную,
а порой и демоническую роль евреев в российской истории (романы И. Шевцова,
исторические романы В. Пикуля, повесть В. Катаева «Уже написан Вертер», 1980;
роман белорусского писателя И. Шамякина «Петроград - Брест», 1983, и другие)".
Тем более забавно, что при обсуждении возможности приема Шевцова в СП СССР
Катаев сказал, что если Шевцова туда примут, то он оттуда выйдет. Видать, своя
своих не познаша.
(11 ff.) Рекемчук, Иванова, либеральная общественность в целом.
(11) Наталья Иванова (Счастливый дар Валентина Катаева // Знамя. 1999. N. 11):
"...Либеральная общественность была абсолютно уверена, что Катаев - “свой”, и
именно поэтому столь болезненно отреагировала на “Вертера” - соответственно, как
на измену... Он не посчитался и с общественным мнением - в том числе той группы,
которую сам и взрастил. Плюнул в самую душу шестидесятникам - “Вертером”, не
оставлявшим сомнений в его почти физиологической ненависти к большевизму. Да и
от антисемитских подозрений в еврейском происхождении (от одесского акцента он
до конца жизни так и не избавился) Катаев здесь отрекается совсем недвусмысленно".
Интересная какая _либеральная_ общественность, которой можно плюнуть в душу
ненавистью к _большевизму_.
Но особенно замечательна непрошибаемая уверенность не только тогдашней, но и
нынешней Натальи Ивановой в том, что написав текст, в котором на месте реальных
евреев-сотрудников ЧК и представлены евреи - сотрудники ЧК, Катаев тем самым де-факто
опровергает антисемитские подозрения в его еврейском происхождении - то есть
еврей такого написать уж точно не мог, ни по мнению Ивановой, ни по мнению
подозревателей. Бедные люди, хорошо, что им не попалась в руки книжка Саула
Яковлевича Борового (Боровой Саул. Воспоминания. Москва - Иерусалим, 1993 / 5753)
со следующим пассажем (С. 77): «1 мая 1920 г. [в Одессе]...происходила
первомайская манифестация, и в ней впервые и, как мне думается, единственный раз
участвовала одесская ЧК. Шли под соответствующими плакатами и лозунгами. Их было
довольно много. Поражало большое число калек, горбатых, очень некрасивых,
уродливых, физически ущербных и обиженных людей и большой процент евреев...», -
а то они окончательно свихнули бы свои либеральные и почвеннические мозги,
пытаясь понять, как человек по имени Саул Боровой может не быть евреем...
(12) Из статьи Александра Рекемчука
в Литгазете номер 40 за 2006 ("Подражание классику").
О "Вертере":
"Я и сейчас, перечитывая, цитируя эту повесть, всё больше постигая её смысл,
терзаюсь вопросом: что же нас – меня, в частности, – заставило тогда её
отвергнуть? И вдруг понимаю, что как раз то и заставило: она была слишком хорошо
написана.
Подобных сочинений, с жидоедской подоплёкой, и тогда уже было предостаточно....
Но они, как правило, были очень плохо, совсем паршиво написаны. И эта паршивость
с головой выдавала их авторов. От этих сочинений можно было просто отряхнуться
брезгливо – как от пыли, как от моли, как от тли. А потом вымыть руки с мылом.
Хотел ли Валентин Катаев, чтобы его книга оказалась в одном ряду с «Тлёй»? Нет,
конечно.
Он был одержим другой целью: сказать всю правду – без изъятий, без утаек. Но
стихия слова непредсказуема, опасна, как вообще опасны стихии.
Он лишь добавил акцент. И вдруг все акценты сместились…"
Страшные вихри гуляют в родной литературе. Вот опять же, и не думал Валентин
Петрович, сидючи в ЧК с таким-то реальным нацсоставом персонала, что сидеть в
ней и ждать расстрела еще можно, это с "либеральной" точки зрения относительно
комильфо, а вот попросту описать это сидение (опять же без всяких обобщений
вообще, что было, то и излагаю) - это уже, батенька, жидоедство в особо опасной
- ибо литературно качественной - форме.
(13) Пошла тяжелая артиллерия. С.Э. Крапивенский . Еврейское в мировой культуре. Волгоградский университет, 2001. С. 126 слл.:
"С началом «перестройки» и установлением «свободы слова» получает все права
гражданства третья градация в развитии субъективистской линии в освещении роли
евреев в истории России и ее культуры - ничем не прикрытое и по сути дела никем
не преследуемое очернительство... С установлением после 1917 года нового
правопорядка очернительство вынуждено было «залечь на дно», ибо противоречило
официальной идеологии интернационализма. в условиях же свободы (а вернее -
анархии) устного и печатного слова очернительство опрометью поднялось с этого
дна. Впрочем, накат очернительской волны начался еще до перестройки... Чем
дальше заходило в тупик позднесоветское общество, тем больше размышляющие об
этом тупике (экономисты, философы, публицисты) задавались вопросом: в чем
причина? И наряду с обоснованным ответом, аппелирующим к проблемам самоедской
экономики, к далеко не разумной внутренней и внешней политике, к уровню культуры,
к особенностям менталитета, к анализу деятельности на всех уровнях общества (ее
целенаправленности, профессионализма, интенсивности) все больше просвечивал и
другой ответ: во всем ищи еврея!
Очернительству прежде всего было подвергнуто участие и роль евреев в революции.
В художественной литературе одной из первых ласточек в этом направлении была
повесть «Уже написан Вертер» Валентина Катаева, до тех пор не отличавшегося ни
антидемократизмом, ни антисемитизмом. Проклятую революцию у Катаева делают одни
Максы Маркины с их «неистребимым, местечковым, жаргонным выговором», Глузманы и
Наумы Бесстрашные, так и не сумевшие «преодолеть шепелявость». Даже первомайские
пайки ржаного хлеба от имени Революции распределяет ни кто иной как еврей Кейлис.
(Прочитав повесть, я написал два письма. Первое - тогдашнему главному редактору
«Литературной газеты» Александру Чаковскому: «Меня как читателя и воспитателя
молодежи крайне тревожит то молчание, которое складывается вокруг повести В.Катаева,
опубликованной С.Наровчатовым в «Новом мире». Не буду повторять содержание
прилагаемого «Открытого письма», подчеркну только, что, на мой взгляд, такого
контрреволюционного и антисемитского по своему замыслу произведения,
маскируемого в то же время под борьбу с врагами революции, наши журналы еще
никогда не печатали. Был, конечно, Иван Шевцов с его антисемитским «во имя Отца
и Сына», но то был примитив, а повесть, которая встревожила меня, написана одним
из самых талантливых писателей».
Второе письмо («Открытое») было направлено мною автору повести и напечатавшему
ее главному редактору «Нового мира» Сергею Наровчатову. в конце обоих писем я
взывал к тому, что если одни имеют право писать и публиковать подобные вещи, то
другие должны иметь право открыто выступать против. Я надеялся, что у моих
адресантов хватит смелости опубликовать письмо и ответить на него. Но ответил
мне только зам. редактора одного из отделов газеты: «Baш отзыв о повести В.Катаева,
во многом справедливый, представляется все-таки слишком резким, категоричным и в
целом недостаточно доказательным ». Как говорится, и на том спасибо."
Опять батальон не умеет читать. Писать умеет, хоть донесения по поводу
контрреволюционной вылазки, хоть про еврейское в мировой культуре, а читать - не
умеет. Проклятую большевистскую революцию Глузман в "Вертере" не делает - он ее,
напротив того, не принимает (в частности, из-за террора, от которого пытается
хоть кого-то спасти). А эсеровские его дела - так это к Андрею Соболю претензии,
который до 18 года эсерствовал, а в 20-м в Одессе людей из лап Дейча спасал (за
что его Одесская ЧК и посадила на полгода), и который выведен в "Вертере" как Глузман-Лось...
А Маркин и Бесстрашный делают в "Вертере" - уж не знаю, всю или не всю мировую
революцию, а только делают они в "Вертере" ровно то, что делали их прототипы,
Дейч и Блюмкин, в суровой исторической реальности. К ней и претензии, опять же.
Не Катаев же назначил Блюмкина особоуполномоченным ЧК, а Дейча - предгубчека
Одессы.
Что и вовсе изумляет - это реакция Крапивенского на злополучного Кейлиса. Что
удивительного или неприятного для групповой репутации евреев в том, что в Одессе
какой-то завхоз, работающий в продовольственной системе города - еврей? Он же
беспартийный завхоз, а не палач. Он и при ген. Шиллинге совершенно спокойно мог
работать в той же самой продовольственной системе...
(14) Пошла сверхтяжелая. Семен Резник
, российский литератор, когда-то редактор серии ЖЗЛ, выдающийся оратель за нашу национальную честь и борец супротив антисемитизьму, опубликовал
недавно, в 2004 и далее, цикл статей "Выбранные места из переписки с друзьями",
вышедший "в последнем за 2007 год номере толстого (на 376 страниц) русского
журнала «Мосты», поквартально издающегося во Франкфурте-на-Майне, Германия, под
редакцией В. С. Батшева". В сети есть масса копий. Так вот, там "Вертеру"
посвящен преогромный экскурс, который просто преступно не привести дословно.
Прошу вооружиться терпением, оно окупится.
"Сюжет шестой.
В качестве примера того, как быстро в литературе набирает мощь антисемитская
струя, я назвал только что появившуюся повесть Валентина Катаева «Уже написан
Вертер…». Назвал, и тотчас пожалел о своей опрометчивости: ведь у Рыбакова с
Катаевым должны были быть давние отношения, а какие именно, я не имел понятия.
Куда может повернуть разговор, если их связывает многолетняя дружба и он
посчитает нужным «заступиться» за товарища!
Но Рыбаков очень резко отозвался о Катаеве, сказав, что хотя они соседи по даче
и нередко встречаются, но он давно уже не подает этому подонку руки.
Я сказал, что написал пародию на «Вертера…». Текст у меня был с собой, и я
охотно оставил бы ему экземпляр, но к этому он интереса не проявил.
Сюжет седьмой.
«Уже написан Вертер...» (Коленный сустав Катаева)
Данный сюжет служит прямым продолжением предыдущего, поэтому не нуждается в
обширном предисловии.
Зам. гл. редактора "Литературной Газеты"
Е. А. Кривицкому.
Уважаемый Евгений Алексеевич!
Благодарю Вас за четкий и ясный ответ на мое письмо, адресованное А.Б.
Чаковскому. Разумеется, я вполне понимаю причины, помешавшие ему ответить лично.
Пожалуйста, передайте Александру Борисовичу мои самые искренние соболезнования.
Представляю, сколько требуется стойкости, чтобы перенести такое горе.
Я обратился к А. Б. Чаковскому не для того, чтобы заполучить его автограф, а
чтобы знать мнение редколлегии, которое, наконец, мною получено. Теперь остается
последовать совету предложить мою статью в "какое-нибудь другое издание", что,
однако, легче советовать, чем исполнить. Ведь если руководствоваться Вашей
логикой, то Машовцу не должны отвечать "Юность", "Октябрь", "Студенческий
меридиан", – вообще все те органы, которые он соизволил "негативно упомянуть".
Тем более нет смысла обращаться в те органы печати, которые Машовец "упомянул
позитивно". Рыцарские времена отошли в прошлое – кто же нынче станет выступать
против "своих" ради голого принципа! Такие журналы, как "Москва" и "Новый мир"
тоже отпадают: на родственные статье Машовца публикации этих журналов я не раз
пытался указать печатно, поэтому обращаться к ним не могу по моральным
соображениям, да и в деловом отношении это было бы бесполезно. Остается, как
видите, не так уж много "других изданий". К тому же их реакцию не трудно
предугадать: "Если те, кого так резко задел Машовец, отмалчиваются, то стоит ли
нам соваться!"
Молчание одних и растущее беспардонство других и приводят к тому разгулу
литературного хулиганства на почве национализма и шовинизма, какое мы наблюдаем
в последнее время в некоторых изданиях. Успехи этого "молодого" литературного
направления столь значительны, что к нему уже спешат примкнуть иные увенчанные
вполне заслуженными лаврами патриархи нашей литературы, что наиболее ярко
выразилось в последней повести В. Катаева ("Новый мир", № 6, 1980). Это повесть
о революции, причем, под соусом сновидений и галлюцинаций, революция
представлена как ужас и изуверство, творимые евреями, то есть в полном
соответствии с тем, как рисовали ее самые крайние черносотенные идеологи вроде
Дубровина, Пуришкевича, Маркова Второго.
К счастью для меня, "Литературную газету" В. Катаев не упоминает и потому
помещение критики в адрес этой повести не может быть воспринято как "защита
чести мундира". Пользуясь этим обстоятельством, я прошу опубликовать в газете
мою пародию на повесть В. Катаева (рукопись прилагаю). Надеюсь, Вас не затруднит
рассмотреть мое произведение в короткий срок и ответить по существу.
С уважением
С. Резник
Аннотация
Ко времени революции относится действие повести «Уже написан Вертер» (1979), озаглавленной строкой Б. Пастернака. Ее герой, чудом спасшийся от расстрела юнкер Дима, воспринимает жуткую явь как сон. В повести описаны фантомы-вещи и фантомы-люди: чернокожанные комиссары с маузерами, здание гаража, в котором происходят расстрелы, Наум Бесстрашный, утверждающий на крови мировую революцию. На крови и предательстве основана и любовь главных героев в дни, когда «и воздух пахнет смертью» (Б. Пастернак).
Валентин Катаев
Уже написан Вертер
Повесть
Убегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении, не туда, куда бы ему хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение, - все дальше, и дальше, и дальше.
Но вот он неизвестно каким образом оказывается на вполне благополучном дачном полустанке, на полузнакомой дощатой платформе.
Кто он? Не представляю. Знаю только, что он живет и действует во сне. Он спит. Он спящий.
Ему радостно, что его уже больше не уносит в неизвестность и что он твердо стоит на дачной платформе.
Теперь все в порядке. Но есть одна небольшая сложность. Дело в том, что ему надо перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону. Это было бы сделать совсем не трудно, если бы противоположную сторону не загораживал только что прибывший поезд, который должен простоять здесь всего две минуты. Так что благоразумнее было бы подождать, пока поезд не уйдет, и уже спокойно, без помех перейти через рельсы на другую сторону.
Но неизвестный спутник хотя и мягко, но настойчиво советует перейти на другую сторону через загораживающий состав, тем более что такого рода переходы делались много раз, особенно во время гражданской войны, когда станции были забиты эшелонами и постоянно приходилось пробираться на другую сторону за кипяточком под вагонами, под бандажами, опасаясь, что каждую минуту состав тронется и он попадет под колеса.
Теперь же это было гораздо безопаснее: подняться по ступеням вагона, открыть дверь, пройти через тамбур, открыть противоположную дверь, спуститься по ступеням и оказаться на другой стороне.
Все было просто, но почему-то не хотелось поступать именно таким образом. Лучше подождать, когда очистится путь, а потом уже спокойно, не торопясь перейти через гудящие рельсы.
Однако спутник продолжал соблазнять легкостью и простотой перехода через тамбур.
Он не знал, кто его спутник, даже не видел его лица. Он только чувствовал, что тот ему кровно близок: может быть, покойный отец, а может быть, собственный сын, а может быть, это он сам, только в каком-то ином воплощении.
Он сошел с платформы на железнодорожное полотно, поднялся по неудобным, слишком высоким ступеням вагона, легко открыл тяжелую дверь и очутился в тамбуре с красным тормозным колесом.
В это время поезд очень легко, почти незаметно медленно тронулся. Но это не беда. Сейчас он откроет другую дверь и на ходу сойдет на противоположную платформу. Но вдруг оказалось, что другой двери вообще нет. Она не существует. Тамбур без другой двери. Это странно, но это так. Объяснений нет. Двери просто не существует. А поезд оказывается курьерским, и он все убыстряет ход.
Стремительно несутся рельсы.
Прыгнуть на ходу обратно? Опасно! Время потеряно. Ничего другого не остается, как ехать в тамбуре курьерского поезда, уносящегося опять куда-то в обратную сторону, еще дальше от дома.
Досадно, но ничего. Просто небольшая потеря времени. На ближайшей станции можно сойти и пересесть во встречный поезд, который вернет его обратно.
Предполагается, что поезда ходят по летнему расписанию, очень часто. Однако до ближайшей станции оказывается неизмеримо далеко, целая вечность, и неизвестно, будет ли вообще встречный поезд.
Неизвестно, что делать. Он совершенно один. Спутник исчез. И быстро темнеет. И курьерский поезд превращается в товарный и с прежней скоростью несет его на открытой площадке в каменноугольную тьму осенней железнодорожной ночи с холодным, пыльным ветром, продувающим тело насквозь.
Невозможно понять, куда его несет и что вокруг. Какая местность? Донбасс, что ли?
Но теперь он уже идет пешком, окончательно потеряв всякое представление о времени и месте.
Пространство сновидения, в котором он находится, имело структуру спирали, так что, отдаляясь, он приближался, а приближаясь, отдалялся от цели.
Улитка пространства.
По спирали он проходил мимо как будто знакомого недостроенного православного собора, заброшенного и забытого среди пустыря, поросшего бурьяном.
Кирпичи почернели. Стены несколько расселись. Из трещин торчали сухие злаки. Из основания неосуществленного купола византийского стиля росло деревцо дикой вишни. Тягостное впечатление от незавершенности строения усиливалось тем, что почти черные кирпичики казались мучительно знакомыми. Кажется, из них было сложено когда-то другое строение, не такое громадное, а гораздо меньше: возможно, тот самый гараж, у полуоткрытых ворот которого стоял человек, убивший императорского посла для того, чтобы сорвать Брестский мир и разжечь пожар новой войны и мировой Революции.
Его кличка была Наум Бесстрашный.
Лампочка слабого накала, повешенная на столбе с перекладиной возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконной звездой.
Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженых цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входившим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма. Довольно высокий стог этих черных, змеино-блестящих, туго заплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним Наум Бесстрашный казался в облаках пыли призраком. Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием:
- Отрезанные косы - это урожай реформы.
Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа». Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость.
Полон рот каши.
Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в «Стойле Пегаса» перед испуганными имажинистами.
А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе.
Теперь он, нетерпеливо помахивая маузером, ожидал, когда все четверо - бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина-сексот Инга, скрывшая, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсер, савинковец, бывший комиссар временного правительства, некий Серафим Лось, - наконец разденутся и сбросят свои одежды на цветник сизых петуний и ночной красавицы.
Среди черноты ночи лампочка так немощно светилась, что фосфорически белели одни лишь голые тела раздевшихся. Все же остальные, не раздевшиеся, почти не виделись.
Четверо голых один за другим входили в гараж, и, когда входила женщина, можно было заметить, что у нее широкий таз и коротковатые ноги, а в облике четвертого, в его силуэте, действительно что-то сохатое.
Они были необъяснимо покорны, как все входившие в гараж.
…Но эта картина внезапно исчезла в непроглядном пространстве сновидений, а спящий уже находился среди недостроенных зданий мертвого города, где, однако же, как ни в чем не бывало проехал хорошо освещенный внутри электрический трамвай с вполне благополучными, несколько старомодными, дореволюционными пассажирами, выходцами из другого мира.
Некоторые из них читали газеты и были в панамах и пенсне.
К несчастью, маршрут трамвая не годился, так как вел в обратную сторону, в сторону желтых маков на хилых декадентских ножках, - туда, где в тучах пыли угадывались многоярусные черепичные крыши с приподнятыми углами буддийских храмов, угнетающе пустынные, непомерно обширные, раскаленные солнцем монастырские дворы и крытые черепицей ворота, охраняемые четырьмя идолами, по два с каждой стороны, их ужасные, раскосые, размалеванные лица - известково-белое, желтое, красное и черное, - отпугивающие злых духов, хотя сами тоже были злыми духами.
Злые духи рая отпугивали злых духов ада.
Однако если был трамвай, значит, где-то имелась и стоянка такси. Действительно, виднелась длинная вереница свободных такси со светлячками, подававших надежду выпутаться из безвыходного положения.
Он приблизился к стоянке и вдруг обнаружил, что забыл, куда надо ехать. Адрес исчез из памяти, так же как исчезла вторая дверь в тамбуре, благодаря чему его унесло неведомо куда.
Ах, как было бы хорошо сесть в свободное такси, произнести магические слова адреса и погрузиться в сладостное ожидание.
Пришлось опять одиноко передвигаться во враждебном пространстве сновидения, уносившем все дальше и дальше от цели.
Удаление в то же время являлось и приближением, как бы моделируя перпетуум-мобиле кровообращения.
Вероятно, в это время сердечный мускул сокращался с перебоями, даже на миг останавливался, и тогда внезапно кабина испорченного лифта падала в шахту, сложенную все из того же кирпича.
Он находился в лифте и вместе с ним падал в пропасть, хотя в то же время как бы со стороны видел падающий ящик испорченного лифта в пропасти лестничной клетки между третьим и четвертым этажами этого ужасного здания.
Все вокруг было испорчено, еле держалось, каждый миг грозило обрушиться: падение с обморочной высоты погашенного маяка, некогда нового, прекрасного на фоне летнего моря с итальянскими облаками над горизонтом, а теперь одряхлевшего, с облупившейся штукатуркой и обнаженными кирпичами все того же венозного цвета.
Разрушающуюся дачу тянул вниз оползень, половина ее уже съезжала на берег вместе с частью обрыва, спящий хватался за корни бурьяна и повисал на их хрупких нитях, рискуя каждый миг сорваться и полететь в прекрасную пропасть.
Обнаженная роща нервной системы. Двухцветный вензель кровообращения. Перепады кровяного давления.
Из глубины памяти непроизвольно извлекались давно уже умершие люди. Они действовали как живые, что придавало сновидению недостоверность.
Иные из этих ненадолго оживших казались совсем не теми, за кого их можно было принять, а были оборотнями. Например, Лариса Германовна. Оставаясь матерью Димы, она одновременно оказывалась и другой женщиной - тоже уже покойной, - гораздо более молодой, порочно привлекательной, коварной, от которой произошли все несчастья.
Впрочем, она не ушла от возмездия.
Покойная Лариса Германовна бежала как живая мимо водопроводной станции, сложенной все из тех же проклятых кирпичей.
Она была в старом летнем костюме, пропотевшем под мышками, и в высоких ботинках из потертой замши, на пуговицах. Она казалась излишне торопливой, что не соответствовало ее обычной дамской походке, полной собственного достоинства.
Когда-то он видел ее за праздничным столом, накрытым крахмальной скатертью, как бы отлитой из гипса. Лариса Германовна сидела на хозяйском месте и черпала из прямоугольной фарфоровой супницы серебряной разливательной ложкой суп-крем д"асперж, который распределяла по кузнецовским тарелкам, а горничная разносила их по гостям. К супу-крему д"асперж подавались крошечные слоеные пирожки с мясом, такие вкусные, что невозможно было удержаться, чтобы не взять еще один или даже два, а потом украдкой вытереть промаслившиеся пальцы о гимназические брюки, что никогда не укрывалось от ее якобы рассеянного взгляда сквозь стекла золотого пенсне, причем породистый нос ее слегка морщился, хотя она и делала вид, что ничего не заметила.
Весной и в начале лета она страдала от сенной лихорадки.
Воскресный обед на открытой террасе, в виду моря, отражавшего колонну маяка и расчленявшего его на горизонтальные полоски. Общество приятелей ее мужа, известного адвоката, - архитекторы, писатели, депутаты Государственной думы, яхтсмены, музыканты. Длинные винные пробки с выжженными французскими надписями. Запах гаванских сигар, теснота, место за столом как раз против ножки стола, о которую стукались колени.
Конечно, Дима был центром внимания.
- Мой мальчик прирожденный живописец! - восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом - сладким и убедительным. - Не правда ли, у него что-то от Врубеля, от его сирени?
Белый жилет. Обручальное кольцо. Золотые запонки.
Сновидение несло вместе со всеми гостями вверх по лестнице в ту заветную комнату, пронизанную послеобеденным солнцем, которая называлась «его студия». Большой мольберт с трехаршинным картоном: «Пир в садах Гамилькара». На стуле большой плоский ящик с пастельными карандашами, уложенными в шелковистую вату, как недоношенные младенцы.
Гости смотрели на картину в кулак. Лариса Германовна тоже смотрела на картину в кулак. Все восхищались Димой. Но, кажется, Лариса Германовна чувствовала неловкость. Все-таки это была детская работа мальчика-реалистика, прочитавшего «Саламбо».
Она представлялась императрицей Екатериной Второй. Даже в ее сенной лихорадке, заставлявшей пухнуть и розоветь нос и слезиться глаза, было нечто августейшее.
Но с какой скоротечностью все это разрушилось!
Теперь ее движения на фоне кирпичной стены водопроводной станции были беспомощно порывисты. Кошелка с тускло блестевшими помидорами нищенски болталась в руке.
Она смотрела не узнавая. А потом вдруг узнала. Ее лицо исказилось.
- Вообрази! - сказала она, рыдая.
Нетрудно было вообразить, как она сначала побежала в тюрьму, где у нее не приняли передачу, сказав «не числится». Значит, он еще «там».
Она хрустнула пальцами без колец и побежала прочь, торопясь предпринять неизвестно что для спасения сына.
Нас несло по раскаленным улицам, но ее невозможно было догнать, и она все время уменьшалась и уменьшалась в перспективах неузнаваемо переменившегося города, как бы составленного из домов, еще не разрушенных землетрясением, но уже лишенных привычных вывесок.
Она превратилась в пятнышко, еле различимое в безвоздушном пространстве, а кровообращение сна уносило спящего в обратную сторону, неумолимо удаляя от неясной цели и в то же время чем дальше, тем ближе к полуциркульному залу бывшего иллюзиона Островского, а ныне общественной столовой, где за квадратными столиками, покрытыми вместо скатертей газетным срывом, обедали по карточкам так называемые совслужащие и работники Изогита, среди которых можно было узнать - хоть и не без труда - Диму, непохожего на себя, так как он был коротко острижен под машинку и вместо гимнастерки на нем была надета сшитая из палатки толстовка - универсальная одежда того времени.
Или, если хотите, той легендарной эпохи, даже эры.
Нежная шея скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста.
…Когда они, Дима и его сотрапезница, заканчивали обед, состоящий из плитки спрессованной ячной каши с каплей зеленого машинного масла, к ним сзади подошли двое. Один в сатиновой рубахе с расстегнутым воротом, в круглой кубанке, другой в галифе, кожаной куртке, чернокурчавый, как овца.
У одного наган. У другого маузер. Они даже не спросили его имени, а только с неистребимым ростовским акцентом велели не оборачиваться, выйти без шума на улицу и идти вниз по Греческой, но не по тротуару, а посередине мостовой.
Его деревянные сандалии щелкали по гранитной брусчатке. Редкие прохожие испытывали, глядя на него, не сочувствие, а скорее ужас.
Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась.
Ах, да. Это была Димина нянька, умершая еще до революции. Она провожала его печальным взглядом.
Но почему же взяли его, а не взяли ту, с которой он обедал?
Она бросала в рот последние крошки пайкового хлеба, собранные со стола в горсть. На ее верхней губе виднелся небольшой белый шрам, который не портил ее грубоватого, но красивого лица.
В столовой было полно обедающих, художников и поэтов Изогита, товарищей Димы по работе, однако ни один из них как бы ничего не заметил.
Дима просто исчез.
Теперь сновидение несло вниз по Греческой вслед за Димой по заржавленным рельсам давно уже бездействующего электрического трамвая. Рельсы, вделанные в брусчатку и засыпанные сухими опавшими цветами белой акации, как бы уводили его вниз, в тот невообразимый мир, который прятался где-то по правую руку от массивных Сабанских казарм.
Там возле проходной будки стоял часовой-китаец в черных обмотках на худых ногах.
Чем быстрее спускались вниз по улице, тем быстрее деформировалось сознание Димы. Еще совсем недавно это было сознание свободного и свободно мыслящего человека, сына, возлюбленного, гражданина, художника…
…Даже - мужа.
Ну да. Он был уже мужем, потому что накануне женился на этой женщине, что оказалось до странности несложно: они зашли в бывший табачный магазин Асвадурова, где еще не выветрился запах турецких и сухумских табаков, и вышли оттуда мужем и женой.
Районное отделение записи актов гражданского состояния.
Документов не требовалось, да их и не было, кроме служебных мандатов. Они только поставили свои подписи. Она несколько замялась и, прикусив губу, аккуратным мещанским почерком вывела свое имя и новую фамилию. Имя ее оказалось Надежда, Надя. Но она тут же пожелала воспользоваться случаем и переменила его сначала на Гильотину, но раздумала и остановилась на имени Инга. Теперь она была Инга, что казалось романтичным и в духе времени.
Для него все это было так ново, и так прекрасно, и так пугающе-рискованно! Ведь он толком не знал, откуда она взялась и кто она такая.
Ставши мужем и женой, они даже не поцеловались. Это было не в духе эпохи. Они вышли на пламенную Дерибасовскую, где в те ушедшие навсегда годы стоял единственный громадный пирамидальный тополь, может быть, еще времен Пушкина, сверху донизу облитый тугоплавким стеклом полудня. Столетний тополь как бы возглавил улицу.
Дима шел вниз по Греческой запинающейся походкой, как будто торопясь к своему концу. Те двое шли сзади. Он обонял запах их жарких немытых тел, запах наплечных ремней, оружейного масла, которым был смазан маузер.
Запах швейной машинки.
Жизнь разделилась на до и после. До - его мысль была свободна, она беспрепятственно плавала во времени и пространстве. Теперь она была прикована к одной точке. Он видел вокруг себя мир, но не замечал его красок. Еще совсем недавно его мысль то улетала в прошлое, то возвращалась в настоящее. Теперь она стала неподвижной: он замечал лишь то, что приближало его к развязке.
В давно не мытой витрине бывшего мехового магазина все еще виднелось траченное молью чучело уссурийского тигра с обломанными усами, и оно приближало его к развязке, так же как и выгоревший на солнце флаг над мраморным входом в бывшую банкирскую контору, где теперь разместился горсовет.
Красногубый, обагренные кровью руки, скрюченные пальцы.
Это видение изнуряло сознание Димы в бесконечную ночь сыпного тифа, и неустранимый свет висящей над ним электрической лампочки обливал палату магическим заревом ледяного полярного сияния. А в дверях палаты стояла его мама, Лариса Германовна, с муфтой в руках, и на ее лице Митя читал отчаяние.
(Но все-таки почему вместе с ним не взяли Ингу?)
Теперь он приближался к развязке, и это уже не был сыпнотифозный бред, а скучная действительность, не оставлявшая надежды на чудо.
Но, может быть, они не знают об его участии, а только предполагают. Нет материала. Нет доказательств. В таком случае еще есть надежда. Надо быть начеку. Язык за зубами. Ухо востро! Ни одного лишнего слова.
Все-таки откуда они могли узнать? Все было так надежно скрыто. Да, собственно, в чем его вина? Ну, положим, он действительно передал письмо! Но ведь он мог не знать его содержания. Одно-единственное письмо. В собраниях на маяке он не участвовал. Только присутствовал, но не участвовал. И то один лишь раз. Случайно. Так что можно считать - совсем не участвовал. Во всяком случае, откуда они могли узнать? Вообще он не сочувствовал этой затее, которую могут теперь посчитать заговором.
Может быть, сначала сочувствовал, хотя и не принимал участия. Но скоро разочаровался.
В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов. Их было по крайней мере семь: деникинцы, петлюровцы, интервенты, гетмановцы, зеленые, красные, белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет Советская Россия.
Он честно работал в Изогите, хотя художником оказался не очень хорошим, дилетантом. Много ненужных подробностей. Передвижничество. Другие художники Изогита по сравнению с ним были настоящими мастерами - острыми и современными. Их революционные матросы, написанные в духе Матисса на огромных фанерных щитах, установленных на бульваре Фельдмана, были почти условны. Черные брюки клеш. Шафранно-желтые лица в профиль. Георгиевские ленты бескозырок, вьющиеся на ветру. Ультрамариновое море с серыми утюгами броненосцев: на мачтах красные флаги. Это вписывалось в пейзаж приморского бульвара с платанами против бывшего дворца генерал-губернатора и бывшей гостиницы «Лондонская».
Левой! Левой! Левой!
На чугунной печурке грелись банки с клеевыми красками. Толстые малярные кисти. Кусок картона. На нем - грубо намалеванная фигура барона Врангеля в папахе, в белой черкеске с черными газырями, летящего в небе над Крымскими горами, а внизу стишок:
«По небу полуночи Врангель летел и песню предсмертную пел. Товарищ! Барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел».
Врангель еще держался в Крыму и в любую минуту мог высадить десант.
С запада наступали белополяки, разбившие под Варшавой Троцкого, который нес на штыках мировую революцию, хотя Ленин и предлагал мирное сосуществование. Пилсудский уже перерезал дорогу на Киев, и его войско стояло где-то под Уманью, под Белой Церковью, под Кодымой, под Бирзулой. Ходили слухи, что уже заняты Вапнярка и Раздельная.
Может быть, он сделал глупость, что стал работать в Изогите и нарисовал Врангеля?
Впрочем, он не верил в возможность нового переворота. Как это ни странно, его манила романтика революции.
…Конвент… Пале-Рояль… Зеленая ветка Демулена… Са ира!
Он уже успел прочесть «Боги жаждут», и в него как бы вселилась душа Эвариста Гамелена, члена секции Нового Моста. Как волшебно это звучало, хотя его самого уже вели по другому мосту, по Строгановскому, за пиками которого в полуденной жаркой мгле виднелся безлюдный порт со всеми его голыми причалами и остатками сожженной эстакады.
…и внезапно захватившая его страсть к девушке из народа, в которой он видел Теруань де Мерикур, ведущую за собой толпу санкюлотов.
Красный фригийский колпак и классический профиль.
Что-то от Огюста Барбье, стихи которого «Собачий пир» в переводе Курочкина любил декламировать перед гостями его отец, едва сдерживая слезы восторга.
Эти стихи повторялись в Диминой памяти в такт кастаньетам его деревянных сандалий:
«Свобода - женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеках, с зажженным фитилем, приложенным к орудью, в дымящейся руке; свобода - женщина с широким твердым шагом, со взором огневым, под дымом боевым, и голос у нее - не женственный сопрано; ни жерл чугунных ряд, ни медь колоколов, ни шкура барабана его не заглушат»…
…Свобода - женщина, но в сладострастье щедром избранникам верна, могучих лишь одних к своим приемлет недрам могучая жена…
…«Когда-то ярая, как бешеная дева, явилась вдруг она, готовая дать плод от девственного чрева, грядущая жена».
Она была его женой, но почему все-таки ее не взяли вместе с ним?
Он уже почти бежал. С поразительной ясностью он понял, что погиб и уже ничто его не спасет. Может быть, бежать? Но каким образом? Бежал же на днях один поручик, которого вели по городу из Особого отдела в губчека. Поручик бросил в глаза конвойным горсть табачных крошек и, добежав до парапета, спрыгнул вниз с моста и скрылся в лабиринте портовых переулков.
Он быстро шел к развязке и завидовал поручику. Но сам на такой поступок был не способен. Да и табака в кармане не нашлось ни крошки. Ах, если бы хоть щепотка… или соли!.. Он бы… Но нет, он бы все равно ничего не сделал. Он был трус. Они все равно пальнули бы сзади в его лопатки, эти двое.
Они тотчас прочитали его мысли.
- Господин юнкер, иди аккуратней. Не торопись. Успеешь.
Его ужаснуло слово «успеешь».
Дверь на блоке, завизжав, открылась, точно была не входом в ад, а дверью сарая. Мимо желтой статуэтки китайца все трое вошли в комендатуру, скучную, как провинциальное почтовое отделение, с той лишь разницей, что вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенсне без оправы.
Мир сузился еще более.
Проходя по запущенному цветнику, он увидел тот самый гараж, о котором в городе говорили с ужасом. Ничего особенного, темные кирпичи. Запертые ворота. Смутный запах бензина.
Кровообращение сна уносило его все дальше и дальше в безлюдную область пересеченной местности, покрытой слоем каменноугольной пыли, где среди труднопроходимых отвалов шлака моталась белая бабочка сердцебиения, ища выхода из пещеры сна…
Белая бабочка была также и веером в руке матери, молодой и прекрасной, как та красавица гимназистка по фамилии Венгржановская, с которой он некогда танцевал хиавату на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти.
Волосы распущены. Лариса Германовна с отчаянием рвется в какую-то закрытую дверь на блоке, стучит кулаками и не может достучаться.
Известно, что туда есть еще какой-то другой ход, открытый, не запертый. Но для того чтобы им воспользоваться, надо сначала подняться на лифте.
…Мы поднимаемся вместе с ней на испорченном лифте, каждый миг готовом развалиться или сорваться со стального троса. Пол лифта под ногами шатается, доски расходятся, зияют щели, и мы падаем вместе с испорченной кабиной в неизмеримую глубину шахты, и, кажется, никакая сила в мире не может нас спасти. Однако я спокоен, так как знаю, что все окончится благополучно и лифт своевременно остановится.
…Просто был выбран неверный способ проникнуть туда, куда рвалась, обливаясь слезами, Лариса Германовна, старея на глазах.
Они опускаются в подвал семиэтажного дома. Необходимо пройти несколько миль в плохо освещенном подземном коридоре, пригибая голову под низко проложенными трубами отопительной системы.
Трудно. Очень трудно. Задыхаются.
Но зато подземный коридор выводит куда надо.
А куда надо?
Надо на волю.
Наконец впереди открытая дверь и дневной свет свободы. Они выходят наружу, но оказываются в безвыходном пространстве внутреннего дворика, на первый взгляд без выхода. Впрочем, выход есть: незаметные ворота, ведущие на улицу. Ворота, к счастью, открыты. Их забыли запереть.
Сквозь короткий туннель открытых ворот они выходят на безлюдный проспект, пролегающий в безрадостной пустынной пересеченной местности, конца и края которой не видно, а ворота, откуда они только что вышли, и семиэтажный дом, и дворик, и подземный коридор - все уже исчезло, и они на миг задерживаются среди непонятного пространства с обломками кирпичных стен, с насыпями, осыпями, оползнями, и уже хорошо знакомая магнитная сила продолжающегося сновидения несет их куда-то в обратную сторону.
Удаляясь, они приближаются.
И вот уже перед Ларисой Германовной опять дверь на блоке и перед ней желтый китаец в черных обмотках, с трехлинейной винтовкой у ноги. Она умоляет впустить ее в комендатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка: фаянсовое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается. Она плачет. Он неподвижен. Она маленькая, еще более постаревшая, стоит перед запертой дверью, уже превратившейся в глухую кирпичную стену, за которой угадывается залитый солнцем запущенный палисадник, сухая клумба петуний, заросших бурьяном, бассейн без воды, с пирамидкой ноздреватых камней и заржавленной трубкой.
…Некогда это был фонтан, окруженный радугой водяной пыли.
Плохо прижившиеся липки, почти не дающие тени.
Эту мирную картину запустения видел сын, и она на миг успокоила его, но дорожка, покрытая успевшим запылиться морским гравием, по дачному скрипевшим под ногами, оказалась слишком короткой. Она подарила ему совсем небольшой кусочек жизни, земного бытия с травой и солнцем. Может быть, это было прощание с миром, с воробьями, которые прыгали возле полуподвальных окон, на три четверти забитых косыми деревянными щитами, откуда невидимые люди бросали им кусочки черного хлеба.
Завизжала еще одна дверь на блоке.
Он стал подниматься по лестнице черного хода, по такой обыкновенной и совсем не страшной дореволюционной лестнице черного хода с чугунными узорчатыми ступенями, крашеными перилами и запахом кошек.
Он успокоился.
Ну, лестница как лестница. Как обычно, на площадки этажей выходили кухонные двери.
Комиссар, которому его передали в комендатуре, деликатно, почти нечувствительно подталкивал его в спину стволом нагана. Они поднимались все выше и выше мимо мертвого лифта, повисшего между этажами на заржавленном тросе.
Лифт из одного из моих постоянных сновидений - спящий и я временами сливались воедино.
Этажи. Четвертый. Пятый. Площадки без мусора, протертые для дезинфекции керосином.
«Сладко пахнет белый керосин». Но какая неестественная тишина. Лишь отдаленный стук пишущих машинок, щебетанье крови.
Зелень садика неумолимо уходила вниз, и уже в окнах показалась черепичная крыша противоположного дома с кошкой возле трубы, выше которой была уже пустота равнодушного неба.
Еще один этаж. Теперь вокруг было одно чистое небо. По такому небу могли бы летать ангелы.
Послышались шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье, но без передника, красавица. Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения. Шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют. От этого шея и руки кажутся удлиненными. Туфельки, кое-где потертые до белизны.
Сзади комиссар с наганом, копия его комиссара. В обоих нечто чернокожаное.
Поравнявшись, комиссары обменялись взглядами, как встречные корабли обмениваются в море приспусканием флагов, посторонились, пропуская друг друга. Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх.
Ее щеки горели. Точеный носик посветлел, как слоновая кость. Знаменитая Венгржановская. Самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней когда-то он танцевал хиавату. Он ее узнал. Она его не узнала. Полька. Аристократка, тогда от нее пахло резедой. Ее имя повторялось в городе.
Теперь оно тоже повторялось, но уже в другом роде. Она была участницей польско-английского заговора. Они решили поднять восстание, захватить город и, перебив комиссаров и коммунистов, передать его великой Польше «от моря до моря», войску маршала Пилсудского. Старая мечта польской шляхты завладеть этим городом на Черном море.
Теперь их всех, конечно, уничтожат. Может быть, даже сегодня ночью вместе с ним. Наберется человек двадцать, и хватит для одного списка. Заговор англо-польский и заговор врангелевский на маяке. Работы на час.
Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться донага. Как родился, так и уйдет.
Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех?
…Сначала с усилием снимет через голову тесное гимназическое платье с узкими рукавами, потом рубашку, кружевные панталоны, чулки на еще детских резиновых подвязках. Маленькие груди. Немытое тело. Каштановый пушок. Гусиная кожа…
Спускаясь по лестнице, она посмотрела на него. Может быть, узнала и удивилась. Высокомерно и вместе с тем подбадривающе усмехнулась краем искусанного рта. Родинка на шее под маленьким ухом.
- Не задерживайтесь. Проходите.
Стоптанные каблучки застучали вниз по ступеням.
Ему велели подняться еще на один марш. Площадка седьмого этажа. Седьмое небо. На один миг он как бы повис в пустоте неба над Маразлиевской улицей, над Александровским парком с каменными арками старинной турецкой крепости. Морской простор.
Как прекрасен, свободен и необъятен был мир, который у него отнимут.
Комиссар передал его следователю, сказав:
- Последний из маяков.
- Садитесь, - сказал со вздохом следователь, измученный предыдущим допросом.
Отлегло от сердца. Значит, не здесь и не сейчас. Еще может быть долгое следствие, допросы, очные ставки…
Но все-таки как же это получилось? Неужели я тогда не разорвал записку, а только хотел разорвать и сжечь? Сейчас все выяснится. Ведь, собственно, я ничего не совершил. Только маяк.
Стул стоял против окна. Нарочно так поставили. Он сел. На его лицо упал желатиновый закат света. Церковный свет.
Следователь оставался в тени. Молодое неразборчивое лицо. Уже не мальчик, но еще и не вполне молодой человек. Юноша, носатый. Лошадиные глаза. На громадном письменном столе возле локтя кольт, источающий запах смазки. Шикарный кабинет с кожаной мебелью. Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, коллега отца.
- Не будем отнимать друг у друга время. Его у вас еще меньше, чем у меня. Вы меня, конечно, не знаете и знать не хотите. А я вас, представьте, помню. Однажды я был у вас на даче. Нет, нет, отнюдь не в гостях. Красил террасу. Приходилось подрабатывать. Балуетесь живописью? Я сам живописец. Учился в художественном. Главным образом работал по пейзажу. Ну, как Исаак Левитан и так далее. Не закончил. Средств не хватило. Выперли. А вы покушаетесь на исторические полотна? «Пир в садах Гамилькара». Ого-го! Рабы, распятые на крестах, красный огонь и черный дым костров. Неверная перспектива и все это почему-то пастелью. Конечно! Пастелью легче: ни цвета, ни формы. Детский рисунок. Ну еще бы! Богатый папаша. Ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей. Десять рублей - пустяки. Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна! Я знаю, перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург, пытался по протекции впихнуть вас в Академию художеств. Но вы с треском провалились, только напрасно опозорились. А теперь папаша драпанул вместе с добровольческой армией в Константинополь, захватив с собой красотку из «Альказара», мамочка осталась на бобах и распродает барахло, а вундеркинд подался в контрреволюцию.
Следователь склонил темное лицо и порылся в ящике стола.
Его слова были грубы, справедливы и ужасны, но еще страшнее было полотнище кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции!». Это знамя он уже видел на Первомайской демонстрации. Его несли во главе колонны сотрудников губчека.
На стене под знаменем висел знакомый портрет: пенсне без оправы, винтики ненавидящих глаз, обещающих смерть, и только смерть.
- Займемся, - сказал следователь. - Имейте в виду - все ваши уже сидят у нас в подвале. Вы последний. Так, может быть, обойдемся без лишней болтовни?
Закатив зрачки и упершись в его лицо белками конских глаз, упершись руками в край лакированного стола с таким напряжением, что даже привстал, следователь сказал:
- Так как же?
- Хорошо, - произнес Дима, с трудом преодолевая тошноту страха.
Первое слово, произнесенное им после того, как те двое подошли к нему сзади в неестественно просторном полуциркульном помещении столовой, где некогда, в легендарном минувшем, показывали знаменитую панораму «Голгофа», смотреть которую водили маленького Диму.
…Перед мальчиком полукругом раскинулась как настоящая черствая иудейская земля: рыжие холмы на рыжем горизонте - неподвижный, бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей в розовых и кубовых хитонах, на ослах и верблюдах и пешком, и надо всем этим царила гора Голгофа с тремя крестами, высоко воздвигнутыми на фоне грозового неба с неподвижными зигзагами молний. Распятый богочеловек и два разбойника, распятые вместе с ним - один одесную, а другой ошуюю, - как бы висели с раскинутыми руками над небольшой живописной группой римских воинов в медных шлемах, украшенных красными щетками.
Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови. Голова в терновом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на камышовой трости к запекшимся устам Спасителя губку, смоченную желчью и уксусом.
Живот распятого был втянут под выступавшими ребрами грудной клетки, и чресла стыдливо прикрыты повязкой. Надвигающаяся пылевая буря деформировала неподвижно раздувающиеся одежды евангельских персонажей, и мальчику уже трудно было дышать полотняным воздухом панорамы.
Может быть, именно тогда зародилась мечта нарисовать цветными карандашами нечто подобное - величественное, бессмертное.
…Красные щетки медных шлемов римских воинов. Распятые на крестах…
«Пир в садах Гамилькара».
- Тогда подпишите, и не будем терять времени.
Он взял деревянную ручку с обкусанным концом, обмакнул перо в чернильницу и торопливо, как будто бы стараясь поскорее отделаться от жизни, подписался. И сразу почувствовал минутное облегчение, а потом, двигаясь в обратном направлении, очутился в полуподвале с беленными известью стенами, еще довольно ярко освещенном сквозь щели дощатых щитов светом уходящего дня.
Полно знакомых и незнакомых, а над ними семиэтажная громада дома, казавшегося днем мертвым, а теперь постепенно оживавшим. В нем как бы зашевелились какие-то неизвестно откуда появившиеся люди. Может быть, на каком-то этаже начала заседать тройка. Не исключено, что оглашались списки. Пишущие машинки стучали наперебой.
Товарный вагон полуподвала, где при жалком свете электрической лампочки слабого накала сидели, лежали и стояли фигуры знакомых и незнакомых, уносил его все дальше и дальше от дома, от дачи, от жизни в непознаваемую область с остатками кирпичной кладки, поросшей бурьяном. Тень бронепоезда с погашенными огнями как бы с тяжелыми вздохами медленно двигалась мимо разрушенной водокачки. Угольки сыпались из поддувала, скупо освещая дегтярно-черные шпалы, пахнущие креозотом.
Каким-то образом становится ясно, что бронепоезд, прорываясь сквозь фронты, везет на юг особоуполномоченного по чистке органов от проникших туда врагов. Карающий меч революции в руках Наума Бесстрашного. Бронепоезд приближается. Рельсы несут его все ближе и ближе к городу.
Таинственная деятельность уже явственно ощущается во всех семи этажах. С наступлением ночи она усиливается. Тяжелое предчувствие охватывает товарный вагон полуподвала - всех знакомых и незнакомых.
В коридор ворвался топот многих ног. Одна за другой отпираются двери камер. Приближается голос, произносящий фамилии - знакомые и незнакомые - по списку.
- Прокудин. Фон Дидерихс. Сикорский. Николаев. Ралли. Венгржановская. Омельченко.
Пронесет или не пронесет? Не пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрывшейся двери тускло блеснула кожаная куртка. Наплечные ремни. Кубанка. Ручной электрический фонарик. Зайчик света побежал по листу бумаги с треугольной печатью.
- Из камеры с вещами. Карабазов. Вайнштейн. Нечипоренко. Вигланд. Венгржановский.
Неужели их тоже? Он замер. Вот сейчас, сию минуту произнесут его фамилию, и тогда все кончится безвозвратно и навсегда.
Но нет. На этот раз его не вызвали. Других из маяка тоже не вызвали. Значит, их очередь еще не наступила. А вдруг случится чудо и очередь их никогда не наступит?
Те же, чья очередь уже наступила, вели себя по-разному.
Полковник Вигланд в английской шинели, имевшей на нем вид халата, сидевший в углу и безостановочно строчивший по-английски свой дневник, преждевременно седой, дурно подстриженный, быстро дострочил начатую фразу и спрятал заветную тетрадку глубоко под шинель. Вероятно, он надеялся, что в конце концов его записки каким-то образом попадут в руки потомков, как важный исторический документ, и его имя произнесут рядом с именем знаменитого Лоуренса-аравийского - гордостью британской разведки, или, быть может, даже рядом с именем Уинстона Черчилля.
Валентин Петрович Катаев
«Уже написан Вертер»
…Он спит, и ему видится, что он на дачном полустанке и ему надо перейти полотно, на котором остановился поезд. Нужно подняться, пройти через тамбур, и окажешься на другой стороне. Однако он обнаруживает, что другой двери нет, а поезд трогается и набирает ход, прыгать поздно, и поезд уносит его все дальше. Он в пространстве сновидения и понемногу как будто начинает припоминать встречающееся на пути: и это высокое здание, и клумбу петуний, и зловещий, тёмного кирпича гараж. У ворот его стоит человек, помахивающий маузером. Это Наум Бесстрашный наблюдает, как бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начоперотдела по прозвищу Ангел Смерти, правый эсер Серафим Лось и женщина — сексот Инга раздеваются, перед тем как войти во мрак гаража и раствориться в нем. Это видение сменяется другими. Его мать Лариса Германовна во главе стола во время воскресного обеда на террасе богатой дачи, а он, Дима, в центре внимания гостей, перед которыми его папа хвалит работы сына, прирождённого живописца.
…А вот и он сам, уже в красной Одессе. Врангель ещё в Крыму. Белополяки под Киевом. Бывший юнкер — артиллерист, Дима работает в Изогите, малюя плакаты и лозунги. Как и другие служащие, он обедает в столовой по карточкам вместе с Ингой. Несколько дней назад они ненадолго зашли в загс и вышли мужем и женой.
Когда они уже заканчивали обед, двое с наганом и маузером подошли к нему сзади и велели, не оборачиваясь, выйти без шума на улицу и повели его прямо по мостовой к семиэтажному зданию, во дворе которого и стоял гараж из тёмного кирпича. Мысль Димы лихорадочно билась. Почему взяли только его? Что они знают? Да, он передал письмо, но ведь мог и не иметь представления о его содержании. В собраниях на маяке не участвовал, только присутствовал, и то раз. Почему же все-таки не взяли Ингу?
…В семиэтажном здании господствовали неестественная тишина и безлюдье. Лишь на площадке шестого этажа попался конвойный с девушкой в гимназическом платье: первая в городе красавица Венгржановская, взятая вместе с братом, участником польско-английского заговора.
…Следователь сообщил, что все, кто был на маяке, уже в подвале, и заставил подписать готовый протокол, чтобы не терять времени. Ночью Дима слышал, как гремели запоры и выкрикивали фамилии: Прокудин! Фон Дидерихс! Венгржановская! Он вспомнил, что у гаража заставляют раздеваться, не отделяя мужчин от женщин…
Лариса Германовна, узнав об аресте сына, бросилась к бывшему эсеру по имени Серафим Лось. Когда-то они вместе с нынешним предгубчека, тоже бывшим эсером, Максом Маркиным бежали из ссылки. Лосю удалось во имя старой дружбы упросить его «подарить ему жизнь этого мальчика». Маркин обещал и вызвал Ангела Смерти. «Выстрел пойдёт в стену, — сказал тот, — а юнкера покажем как выведенного в расход».
Утром Лариса Германовна нашла в газете в списке расстрелянных Димино имя. Она вновь побежала к Лосю, а Дима тем временем другой дорогой пришёл на квартиру, где они жили с Ингой. «Кто тебя выпустил?» — спросила она вернувшегося мужа. Маркин! Она так и думала. Он бывший левый эсер. Контра пролезла и в органы! Но ещё посмотрим, кто кого. Только теперь Дима понял, кто перед ним и почему так хорошо был осведомлён следователь. Инга тем временем отправилась в самую шикарную в городе гостиницу, где в номере люкс жил уполномоченный Троцкого Наум Бесстрашный, когда-то убивший германского посла Мирбаха, чтобы сорвать Брестский мир. Тогда он был левым эсером, теперь же троцкистом, влюблённым в Льва Давыдовича. «Гражданка Лазарева! Вы арестованы», — неожиданно изрёк тот, и, не успев прийти в себя от неожиданности и ужаса, Инга оказалась в подвале.
Дима тем временем пришёл к матери на дачу, но застал её мёртвой. Вызванный сосед доктор ничем уже не мог помочь, кроме как советом сейчас же скрыться, хоть в Румынию.
И вот он уже старик. Он лежит на соломенном матраце в лагерном лазарете, задыхаясь от кашля, с розовой пеной на губах. В затухающем сознании проходят картины и видения. Среди них вновь клумба, гараж, Наум Бесстрашный, огнём и мечом утверждающий всемирную революцию, и четверо голых: трое мужчин и женщина с чуть короткими ногами и хорошо развитым тазом…
Человеку с маузером трудно пока представить себя в подвале здания на Лубянской площади ползающим на коленях и целующим начищенные кремом сапоги окружающих его людей. Тем не менее позднее его взяли с поличным при переходе границы с письмом от Троцкого к Радеку. Его втолкнули в подвал, поставили лицом к кирпичной стене. Посыпалась красная пыль, и он исчез из жизни.
«Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже — жертвы века», как сказал поэт.
«Уже написан Вертер» - строка из Пастернака, которой озаглавил свою повесть старейший из советских писателей Валентин Петрович Катаев. Действие повести относится к революционным событиям начала двадцатого века.
Главный герой повести – юнкер Дима, которого от расстрела спасло чудо в виде знакомого матери. Он воспринимает теперь жуткую действительность как сон. Вокруг одни фантомы: фантомы - вещи в виде гаража, в котором происходят расстрелы, фантомы – люди, комиссары с маузерами в коже, строящие на человеческой крови мировую революцию, такие как Наум Бесстрашный.
Во сне в гараж заходят четверо: бывшие предгубчека Макс Маркин, начальник опер отдела по прозвищу Ангел Смерти и правый эсер Серафим Лось - люди, спасшие от смерти юношу – юнкера, и женщина - его жена и сексот Инга. Люди раздеваются, входят в гараж и растворяются во мраке.
Картина сна сменяется на другую: воскресный обед, за столом богатой дачи его семья с гостями, папа хвалит его рисунки, и вообще – он в центре всеобщего внимания…
Теперь «красная» Одесса, где рядом жена Инга, они обедают в столовой по карточкам, когда его арестовали. В голове мысль: «Почему не взяли Ингу?». Вот и любовь главных героев основана на предательстве и крови.
В основе этого произведения Катаева лежат не чьи-то конкретные воспоминания. Здесь все переплелось причудливо: увиденное и пережитое, прочувствованное и прочитанное – с домысленным и нафантазированным.
В те годы военного коммунизма, когда бывшие левые эсеры, а точнее авантюрного склада люди пытались установить свою кровавую власть, ЧК становится просто карательным органом, и человеческая жизнь не стоит ничего.
И вот юноша уже старик на соломенном лагерном матраце в лазарете. Опять в затуманенном сознании проходят те же видения: гараж, Наум Бесстрашный, и четверо голых.
Тому человеку с маузером довольно трудно представить себя в подвале на Лубянке. А ведь именно там, ползающий на коленях и целующий сапоги окружающим, он окажется через некоторое время.
«Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже - жертвы века», - писал Пастернак. Добавить нечего.
Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Русская литература XX века Новиков В И
Уже написан Вертер
Уже написан Вертер
Повесть (1979)
…Он спит, и ему видится, что он на дачном полустанке и ему надо перейти полотно, на котором остановился поезд. Нужно подняться, пройти через тамбур, и окажешься на другой стороне. Однако он обнаруживает, что другой двери нет, а поезд трогается и набирает ход, прыгать поздно, и поезд уносит его все дальше. Он в пространстве сновидения и понемногу как будто начинает припоминать встречающееся на пути: и это высокое здание, и клумбу петуний, и зловещий, темного кирпича гараж. У ворот его стоит человек, помахивающий маузером. Это Наум Бесстрашный наблюдает, как бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начоперотдела по прозвищу Ангел Смерти, правый эсер Серафим Лось и женщина - сексот Инга раздеваются, перед тем как войти во мрак гаража и раствориться в нем.
Это видение сменяется другими. Его мать Лариса Германовна во главе стола во время воскресного обеда на террасе богатой дачи, а он, Дима, в центре внимания гостей, перед которыми его папа хвалит работы сына, прирожденного живописца.
…А вот и он сам, уже в красной Одессе. Врангель еще в Крыму. Белополяки под Киевом. Бывший юнкер - артиллерист, Дима работает в Изогите, малюя плакаты и лозунги. Как и другие служащие, он обедает в столовой по карточкам вместе с Ингой. Несколько дней назад они ненадолго зашли в загс и вышли мужем и женой.
Когда они уже заканчивали обед, двое с наганом и маузером подошли к нему сзади и велели, не оборачиваясь, выйти без шума на улицу и повели его прямо по мостовой к семиэтажному зданию, во дворе которого и стоял гараж из темного кирпича. Мысль Димы лихорадочно билась. Почему взяли только его? Что они знают? Да, он передал письмо, но ведь мог и не иметь представления о его содержании. В собраниях на маяке не участвовал, только присутствовал, и то раз. Почему же все-так не взяли Ингу?
…В семиэтажном здании господствовали неестественная тишина и безлюдье. Лишь на площадке шестого этажа попался конвойный с девушкой в гимназическом платье: первая в городе красавица Венгржановская, взятая вместе с братом, участником польско-английского заговора.
…Следователь сообщил, что все, кто был на маяке, уже в подвале, и заставил подписать готовый протокол, чтобы не терять времени. Ночью Дима слышал, как гремели запоры и выкрикивали фамилии: Прокудин! Фон Дидерихс! Венгржановская! Он вспомнил, что у гаража заставляют раздеваться, не отделяя мужчин от женщин…
Лариса Германовна, узнав об аресте сына, бросилась к бывшему эсеру по имени Серафим Лось. Когда-то они вместе с нынешним предгубчека, тоже бывшим эсером, Максом Маркиным бежали из ссылки. Лосю удалось во имя старой дружбы упросить его «подарить ему жизнь этого мальчика». Маркин обещал и вызвал Ангела Смерти. «Выстрел пойдет в стену, - сказал тот, - а юнкера покажем как выведенного в расход».
Утром Лариса Германовна нашла в газете в списке расстрелянных Димино имя. Она вновь побежала к Лосю, а Дима тем временем другой дорогой пришел на квартиру, где они жили с Ингой. «Кто тебя выпустил?» - спросила она вернувшегося мужа. Маркин! Она так и думала. Он бывший левый эсер. Контра пролезла и в органы! Но еще посмотрим, кто кого. Только теперь Дима понял, кто перед ним и почему так хорошо был осведомлен следователь.
Инга тем временем отправилась в самую шикарную в городе гостиницу, где в номере люкс жил уполномоченный Троцкого Наум Бесстрашный, когда-то убивший германского посла Мирбаха, чтобы сорвать Брестский мир. Тогда он был левым эсером, теперь же троцкистом, влюбленным в Льва Давыдовича. «Гражданка Лазарева! Вы арестованы», - неожиданно изрек тот, и, не успев прийти в себя от неожиданности и ужаса, Инга оказалась в подвале.
Дима тем временем пришел к матери на дачу, но застал ее мертвой. Вызванный сосед доктор ничем уже не мог помочь, кроме как советом сейчас же скрыться, хоть в Румынию.
И вот он уже старик. Он лежит на соломенном матраце в лагерном лазарете, задыхаясь от кашля, с розовой пеной на губах. В затухающем сознании проходят картины и видения. Среди них вновь клумба, гараж, Наум Бесстрашный, огнем и мечом утверждающий всемирную революцию, и четверо голых: трое мужчин и женщина с чуть короткими ногами и хорошо развитым тазом…
Человеку с маузером трудно пока представить себя в подвале здания на Лубянской площади ползающим на коленях и целующим начищенные кремом сапоги окружающих его людей. Тем не менее позднее его взяли с поличным при переходе границы с письмом от Троцкого к Радеку. Его втолкнули в подвал, поставили лицом к кирпичной стене. Посыпалась красная пыль, и он исчез из жизни.
Убегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении, не туда, куда бы ему хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение, - все дальше, и дальше, и дальше.
Но вот он неизвестно каким образом оказывается на вполне благополучном дачном полустанке, на полузнакомой дощатой платформе.
Кто он? Не представляю. Знаю только, что он живет и действует во сне. Он спит. Он спящий.
Ему радостно, что его уже больше не уносит в неизвестность и что он твердо стоит на дачной платформе.
Теперь все в порядке. Но есть одна небольшая сложность. Дело в том, что ему надо перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону. Это было бы сделать совсем не трудно, если бы противоположную сторону не загораживал только что прибывший поезд, который должен простоять здесь всего две минуты. Так что благоразумнее было бы подождать, пока поезд не уйдет, и уже спокойно, без помех перейти через рельсы на другую сторону.
Но неизвестный спутник хотя и мягко, но настойчиво советует перейти на другую сторону через загораживающий состав, тем более что такого рода переходы делались много раз, особенно во время гражданской войны, когда станции были забиты эшелонами и постоянно приходилось пробираться на другую сторону за кипяточком под вагонами, под бандажами, опасаясь, что каждую минуту состав тронется и он попадет под колеса.
Теперь же это было гораздо безопаснее: подняться по ступеням вагона, открыть дверь, пройти через тамбур, открыть противоположную дверь, спуститься по ступеням и оказаться на другой стороне.
Все было просто, но почему-то не хотелось поступать именно таким образом. Лучше подождать, когда очистится путь, а потом уже спокойно, не торопясь перейти через гудящие рельсы.
Однако спутник продолжал соблазнять легкостью и простотой перехода через тамбур.
Он не знал, кто его спутник, даже не видел его лица. Он только чувствовал, что тот ему кровно близок: может быть, покойный отец, а может быть, собственный сын, а может быть, это он сам, только в каком-то ином воплощении.
Он сошел с платформы на железнодорожное полотно, поднялся по неудобным, слишком высоким ступеням вагона, легко открыл тяжелую дверь и очутился в тамбуре с красным тормозным колесом.
В это время поезд очень легко, почти незаметно медленно тронулся. Но это не беда. Сейчас он откроет другую дверь и на ходу сойдет на противоположную платформу. Но вдруг оказалось, что другой двери вообще нет. Она не существует. Тамбур без другой двери. Это странно, но это так. Объяснений нет. Двери просто не существует. А поезд оказывается курьерским, и он все убыстряет ход.
Стремительно несутся рельсы.
Прыгнуть на ходу обратно? Опасно! Время потеряно. Ничего другого не остается, как ехать в тамбуре курьерского поезда, уносящегося опять куда-то в обратную сторону, еще дальше от дома.
Досадно, но ничего. Просто небольшая потеря времени. На ближайшей станции можно сойти и пересесть во встречный поезд, который вернет его обратно.
Предполагается, что поезда ходят по летнему расписанию, очень часто. Однако до ближайшей станции оказывается неизмеримо далеко, целая вечность, и неизвестно, будет ли вообще встречный поезд.
Неизвестно, что делать. Он совершенно один. Спутник исчез. И быстро темнеет. И курьерский поезд превращается в товарный и с прежней скоростью несет его на открытой площадке в каменноугольную тьму осенней железнодорожной ночи с холодным, пыльным ветром, продувающим тело насквозь.
Невозможно понять, куда его несет и что вокруг. Какая местность? Донбасс, что ли?
Но теперь он уже идет пешком, окончательно потеряв всякое представление о времени и месте.
Пространство сновидения, в котором он находится, имело структуру спирали, так что, отдаляясь, он приближался, а приближаясь, отдалялся от цели.
Улитка пространства.
По спирали он проходил мимо как будто знакомого недостроенного православного собора, заброшенного и забытого среди пустыря, поросшего бурьяном.
Кирпичи почернели. Стены несколько расселись. Из трещин торчали сухие злаки. Из основания неосуществленного купола византийского стиля росло деревцо дикой вишни. Тягостное впечатление от незавершенности строения усиливалось тем, что почти черные кирпичики казались мучительно знакомыми. Кажется, из них было сложено когда-то другое строение, не такое громадное, а гораздо меньше: возможно, тот самый гараж, у полуоткрытых ворот которого стоял человек, убивший императорского посла для того, чтобы сорвать Брестский мир и разжечь пожар новой войны и мировой Революции.
Его кличка была Наум Бесстрашный.
Лампочка слабого накала, повешенная на столбе с перекладиной возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконной звездой.
Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженых цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входившим в город. Косы являлись признаком низвергнутого феодализма. Довольно высокий стог этих черных, змеино-блестящих, туго заплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним Наум Бесстрашный казался в облаках пыли призраком. Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием:
Отрезанные косы - это урожай реформы.
Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожай реформы», как бы произнесенное с трибуны конвента или написанное самим Маратом в «Друге народа». Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость.
Полон рот каши.
Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в «Стойле Пегаса» перед испуганными имажинистами.
А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе.
Теперь он, нетерпеливо помахивая маузером, ожидал, когда все четверо - бывший предгубчека Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина-сексот Инга, скрывшая, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсер, савинковец, бывший комиссар временного правительства, некий Серафим Лось, - наконец разденутся и сбросят свои одежды на цветник сизых петуний и ночной красавицы.
Среди черноты ночи лампочка так немощно светилась, что фосфорически белели одни лишь голые тела раздевшихся. Все же остальные, не раздевшиеся, почти не виделись.
 parlini.ru Ремонт квартиры, дачи и дома.
parlini.ru Ремонт квартиры, дачи и дома.